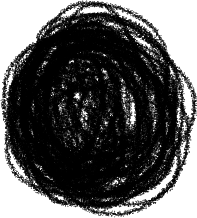Практики и последствия
Как в Советском Союзе появилось правозащитное движение? Что делали инакомыслящие, чтобы быть услышанными? Как им удавалось в условиях цензуры публиковать свои тексты и поддерживать связь друг с другом и с людьми за границей? И какие репрессии ожидали советских граждан, если они пытались открыто высказывать свое мнение? История инакомыслия в Советском Союзе – в обзоре декодера.
Свобода под диктатурой партии?
Советский Союз был централизованным государством, которым управляла Коммунистическая партия. Государство просуществовало почти 70 лет и все эти годы власти основывали свою политику на принципах коммунистической идеологии, реализацию которых контролировали партия и государственные органы, такие как спецслужба КГБ. В разные периоды существования СССР возможности для самовыражения граждан и степень индивидуальных свобод сильно менялась.
«Оттепель» после сталинского террора
После смерти Сталина в 1953 году у руля партии встал Никита Хрущев, и в стране произошла смена политического курса, вошедшая в историю как «оттепель». Несмотря на то, что, как и прежде, о свободном обществе речи не шло, реформы все-таки открыли новую политическую эру.
Эпоха Сталина, продлившаяся четверть века, характеризовалась политическим деспотизмом и государственным террором. Во время его правления в начале 1930-х годов была проведена насильственная коллективизация крестьянства (раскулачивание), вызвавшая почти повсеместный голод, в 1937–1938 годах были организованы массовые расстрелы и репрессии, создана обширная система лагерей (ГУЛАГ), в которых миллионы заключенных были вынуждены выполнять, часто в бесчеловечных условиях, принудительные работы. Вторая мировая война принесла советским гражданам дополнительные страдания. Только после начала «оттепели» общество получило новые свободы. Только благодаря им инакомыслие, в том числе выражаемое публично, стало вообще возможным.
Политические реформы и трансформация общества
Начиная с 1956 года политическое руководство СССР стало публично осуждать репрессии сталинской эпохи. Ранее почти полностью замороженная политическая, общественная и культурная жизнь стала постепенно оживляться. Страна открылась для Запада, стали поддерживаться идеологически приемлемые официальные культурные контакты и встречи. Масштабные реформы вызвали у граждан желание принимать активное участие в будущем своей страны: после долгих лет лишений у многих появилась надежда на изменения в экономике и нормальную повседневную жизнь.
Несмотря на государственный контроль за СМИ, искусством, наукой и образованием, общественные изменения с тех пор уже невозможно было остановить. Все больше людей стало избавляться от страха выражать собственную точку зрения и личное мнение или заниматься свободным от идеологии творчеством. В частности, несмотря на массированную пропаганду времен холодной войны и возведение «железного занавеса» с конца 1950-х годов, невозможно было уже препятствовать интересу молодого поколения к западной популярной культуре. В 1960–1980-х годах в отдельных городах Советского Союза постепенно стало развиваться правозащитное движение и альтернативная художественная жизнь.
В своей речи на XX съезде партии в 1956 году Никита Хрущев осудил культ личности Сталина и положил начало общественным дискуссиям о сталинском терроре.
Фото: Хрущев на XX съезде партии / © SputnikВ 1957 году в СССР под знаком мира во всем мире состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Фото: Фестивальная открытка / © Алеся Кананчук / Архив Центра Восточной Европы В мероприятиях Фестиваля молодежи в 1957 году приняли участие более 30 тысяч человек из 130 стран. Для советских граждан это была редкая возможность напрямую встретиться с иностранцами /
Фото: Западногерманская делегация на открытии / © Давид Шоломович, SputnikНастоящим магнитом для публики стала прошедшая в Москве в 1959 году Американская национальная выставка. Чтобы посмотреть на американские автомобили, современные кухни, товары широкого потребления и попробовать пепси-колу, нужно было выстоять длинные очереди. Фото: Автомобиль «шевроле» в парке «Сокольники» / © Sputnik Важным источником вдохновения для советских художников-нонконформистов стали работы французских импрессионистов, Пабло Пикассо и представителей американского модернизма, впервые выставленные в Советском Союзе в 1959 году.
Фото: Толпа перед картиной Джексона Поллока / © Ф. Гесс, Архив Смитсоновского институтаЧасть советской молодежи начинает ориентироваться на американскую поп-культуру. Стиляги танцевали под джазовую музыку и свинг и пытались утвердить другой стиль жизни. В официальных СМИ их клеймили тунеядцами / Фото: Молодой человек в Горьком в начале 1960-х / © Из частной коллекции Дмитрия Козлова Вдохновленные «оттепелью» молодые советские граждане попытались начать выражать собственные политические взгляды. Хрущев ответил на их критику режима волной репрессий. Фото: Студенты в мордовском исправительном лагере в конце 1950-х / © Центр книги и графики, Санкт-Петербург В декабре 1962 года Никита Хрущев посетил выставку «30 лет Московскому союзу художников». На открытии он резко осудил впервые выставленные абстрактные работы художников-нонконформистов. Фото: Хрущев на выставке в «Манеже», 1962 / © Sputnik
Права человека в авторитарном государстве
Хотя после смерти Сталина культурная и повседневная жизнь в СССР заметно оживились, политическое руководство двигалось «зигзагообразным» курсом. Секретный доклад на XX съезде партии в 1956 году, в котором Хрущев осудил культ личности Сталина, способствовал, с одной стороны, появлению дискуссий и альтернативных позиций. С другой стороны, в том же году многие из них были им же задушены: в 1956 году советское правительство ввело войска в Венгрию и подавило народное восстание, тем самым дав понять в том числе и собственным гражданам, что любое отклонение от линии партии будет караться и впредь.
В 1957 и 1958 годах по Советскому Союзу прокатилась волна арестов по политическим мотивам. Репрессии проходили тихо и не привлекли большого внимания. После отставки Никиты Хрущева новый руководитель партии Леонид Брежнев еще более усилил политические преследования инакомыслящих. В отличие от своего предшественника, он инсценировал репрессии как спектакль: в феврале 1965 года состоялся показательный процесс над советскими писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, о котором писали во всех официальных изданиях. По мере того как информация о политических репрессиях становилась достоянием общественности, стали меняться и способы выражения несогласия. Если раньше протесты проходили преимущественно негласно, то теперь они стали все более публичными.
«Соблюдайте вашу Конституцию!» Рождение правозащитного движения
5 декабря 1965 года, в День советской Конституции, активисты призвали к демонстрации на Пушкинской площади в Москве: они выступали против ограничения творческой свободы, за прозрачность судебного процесса и открытый суд. Они ссылались на действующие законы: с 1936 года в Советском Союзе действовала Конституция, на бумаге гарантировавшая гражданам гражданские права. Кроме этого, после окончания Второй мировой войны Советский Союз подписал Всеобщую декларацию прав человека. «Соблюдайте вашу Конституцию!» — один из главных лозунгов советских правозащитников. Практика выражения протеста в форме требования соблюдения действующих законов изначально происходила из лагерного мира и по мере развития международного дискурса о правах человека в 1960–1970-е годы ее переняли политзаключенные и их сторонники.
Самиздат и «Хроника текущих событий»
Самиздат — неофициальное производство и распространение текстов — с конца 1960-х годов стал основой и рупором советского правозащитного движения. По случаю Международного года прав человека в 1968 году правозащитники стали собирать информацию о нарушениях закона и репрессиях и публиковать «Хронику текущих событий». Ее перепечатывали на пишущей машинке и тайно передавали копии друзьям и знакомым. «Хроника» стала прообразом целой серии регулярно издаваемых подпольных журналов и альманахов, которые в последующие годы распространялись в виде нелегальных копий в Москве, Ленинграде и других городах. В самиздате распространялась также документация отдельных судебных процессов, письма-жалобы и рассказы заключенных. Кульминацией международной политики в области прав человека стало подписание в августе 1975 года Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ, в котором, с одной стороны, было достигнуто соглашение о невмешательстве во внутренние дела государств, что было важно для московского руководства, с другой стороны, в нем закреплялся принцип уважения к правам человека. В результате в Советском Союзе были созданы неофициальные Хельсинские группы для контроля за соблюдением прав человека. С помощью информации, которую диссиденты отправляли за границу, они пытались быть услышанными. Не только на Западе, но через Запад и на своей родине.
Давление со стороны Запада
Советские правозащитники в 1970-е годы все чаще стали направлять обращения не только к руководству компартии, но и к западным политикам и представителям СМИ, чтобы тем самым привлечь их внимание к сложной ситуации вокруг прав человека в Советском Союзе. С этой целью они организовывали нелегальные пресс-конференции в собственных квартирах и специально приглашали иностранных корреспондентов. В это время в Западной Европе и США уже работало большое количество некоммерческих организаций, которые, подобно Amnesty International, проводили кампании за соблюдение прав человека или оказывали поддержку национальных движений, как это было в случае с украинской диаспорой или еврейским движением за выезд из СССР. Своими кампаниями они создавали для советских правозащитников значимое информационное пространство на Западе. Одновременно они поддерживали политических заключенных, писали письма поддержки и отправляли посылки с гуманитарной помощью в Советский Союз, а также помогали с обменом информацией и выездом людей из страны.
Тамиздат
Под видом туристов или студентов в Москву из-за рубежа приезжали курьеры, чтобы встретиться с диссидентами и провезти литературу через «железный занавес». Впоследствии сторонники диссидентов и эмигрантские издательства, расположенные в Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Амстердаме, публиковали привезенные контрабандой тексты в так называемом тамиздате. Тексты переводили на западные языки и публиковали в специально созданных для этого издательствах или же печатали на русском языке и тайно переправляли в Советский Союз в виде небольших книг в мягком переплете. На Западе самиздат и тамиздат долгое время считался самым надежным источникам информации о ситуации и событиях в СССР. Даже сегодня они не утратили своего культурного значения для исследователей, изучающих инакомыслие и инакомыслящих в Советском Союзе.
Стенографирование судебных заседаний было запрещено. Фрида Вигдорова вела записи на процессе против Иосифа Бродского и несколько раз была остановлена милицией в зале суда. Фото: Блокнот Фриды Видгоровой © Фабиан Винклер, Архив Центра Восточной Европы
#Иосиф БродскийВ декабре 1965 года московские инакомыслящие впервые устроили демонстрацию за свободу художественной деятельности и с требованиями гласного суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем / Фото © Aрхив Сахаровского центра При Леониде Брежневе репрессии стали носить показательный характер. Уголовный процесс против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля широко освещался в государственных СМИ. Фото: Даниэль и Синявский на скамье подсудимых / © Архив московского «Мемориала» На суд против Синявского и Даниэля в феврале 1966 года были допущены только официально приглашенные гости. Соратники собрались перед зданием Верховного суда.
Фото: Пропуск на судебное заседание / © Архив Центра Восточной ЕвропыВ августе 1968 года, в знак протеста против ввода советских войск в Прагу, семеро советских диссидентов развернули на Красной площади транспарант с лозунгом «За вашу и нашу свободу». Все семеро были сразу арестованы. Фото: Снимок транспаранта / © Архив Центра Восточной Европы В «Хронике текущих событий» инакомыслящие фиксировали данные о нарушениях прав и репрессиях. Фото: Конверт с фотокопиями «Хроники» / © Мануэла Путц, Архив Центра Восточной Европы В Москве, Ленинграде и других городах распространялись нелегальные журналы, документация судебных процессов, отчеты из лагерей и тюрем. Фото: Копия «Белой книги», в которой был задокументирован процесс над Синявским и Даниэлем / © Архив Центра Восточной Европы Кульминацией международной политики в области прав человека стало подписание Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. После этого в СССР начали создаваться нелегальные Хельсинкские группы.
Фото: Заявление о создании Московской Хельсинкской группы / © Фабиан Винклер, Архив Центра Восточной ЕвропыВ Западной Европе и США существовало большое количество правозащитных организаций. Сторонники диссидентов писали письма политзаключенным и отправляли в СССР посылки с гуманитарной помощью. Фото: Переписка украинского диссидента Василя Стуса с немецкой активисткой Amnesty International / © Архив Центра Восточной Европы Под видом туристов курьеры приезжали в СССР, чтобы встретиться с диссидентами и тайно переправить информацию через железный занавес. Фото: Записная книжка Роберта ван Ворена с фотографией Владимира Буковского, 1978 / © Матей Межа, Архив Центра Восточной Европы Эмигрантские издательства в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Амстердаме переводили и публиковали контрабандные документы в так называемом «тамиздате». Фото: Выпуски журнала «Континент»/ © Мария Классен, Архив Центра Восточной Европы
По ту сторону цензуры
Государственная монополия затрудняла гражданам Советского Союза доступ к информации, содержание которой отличалось от официальной линии партии. И СМИ, и сектор культуры были полностью подконтрольны государству.
Тотальная цензура
Все теле- и радиопередачи, фильмы, газеты и журналы, а также литературные и художественные произведения, музыкальные и театральные постановки требовали проверки и одобрения цензурных органов. В то же время, особенно после начала «оттепели» при Никите Хрущеве, увеличилось число людей, которые стремились к другому образу жизни, искали альтернативы или даже инициировали их.
Заграничная пресса
Помимо советской прессы граждане СССР могли покупать также периодические издания, привезенные из-за рубежа. Эта возможность была ограниченной, но все же официально разрешенной. Прежде всего это касалось изданий из братских социалистических стран. Их можно было купить не везде, и чтение требовало знания иностранных языков. Но на фоне недавнего прошлого страны и сталинского террора сведения об альтернативно развивающемся социализме в Югославии или в Польше могли стать толчком для начала политической деятельности.
Западные голоса сквозь шум глушилок
Те смельчаки, которые пытались ловить запрещенные в СССР радиоволны из западных стран, балансировали на границе легальности. Западные радиостанции, такие как «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» или Би-би-си, специализировались на вещании на Советский Союз. Их можно было слушать, несмотря на мучительный скрежет или множество прерываний, вызванных глушилками. Помимо новостных передач на русском языке и уроков английского, слушатели из Советского Союза получали «иное» чувство жизни прежде всего благодаря западной популярной музыке — джазу или свингу. Музыка делала «вражеские радиостанции» еще более привлекательными.
Музыка на костях
Прослушивание западных радиостанции нередко открывало советским гражданам путь к инакомыслию. Но этот путь не всегда подразумевал политические амбиции, часто он просто вел на местный черный рынок. Там, на окраине воровского мира, продавались нелегальные пластинки. Для создания записей в импровизированных подпольных звукозаписывающих студиях особенно подходили рентгеновские снимки. До тех пор пока кассеты и магнитофоны не заменили эти вынужденные приспособления, на проигрывателях советских меломанов и любителей танцев часто оказывались записи, сделанные на изображениях ребер или отека легких. Позже, в 1970-х и 1980-х годах, на них можно было услышать уже русскую популярную музыку. Хриплые голоса русский бардов или гитарные звуки отечественного рока — в зависимости от предпочтений — будоражили советскую молодежь или призывали слушателей к переменам во время перестройки.
Литература андеграунда
Литературе и искусство в Советском Союзе не ограничивалась ориентацией на западные прообразы. Чтобы вырваться из рамок социалистического реализма, советская творческая интеллигенция уже в конце 1950-х годов черпала вдохновение в литературе начала века, а также в утопических экспериментах русского авангарда 1920-х годов. С помощью самодельных книг, которые передавали друзьям и знакомым, интеллектуалы в начале 1960-х годов развили самиздат и постепенно создали неофициальную альтернативу государственным издательствам (госиздат). У истоков феномена самиздата лежало, однако, не распространение опасной политической информации о нарушениях прав человека, а тяга к художественной литературе — тиражирование и распространение стихов и рассказов. И центральную роль в этом процессе сыграла пишущая машинка. Отдельные экземпляры подпольной литературы после набора текста вручную переплетали, иногда даже художественно оформляли. В конце 1970-х годов молодые литераторы попытались официально утвердить альтернативную литературу, издавая литературный альманах «Метро́поль». Но потерпели неудачу.
Слушать западные радиостанции было запрещено и те, кто это пытался делать подвергали себя опасности.
Фото: Spidola — первый массовый транзисторный радиоприемник в СССР / © Алеся Кананчук, Архив Центра Восточной ЕвропыСигнал западных радиостанций «Свобода» или BBC пробивался сквозь ужасный шум государственных глушилок / Фото: Глушители западных радиостанций в Риге / © Andrei Sakharov Research Centre for Democratic Development Грампластинки часто нелегально изготавливали из рентгеновских снимков. Так на проигрывателях оказывались изображения огнестрельных ранений или отеков легких / Фото: Пластинка Ива Монтана из рентгеновской пленки с музыкой / © Архив Центра Восточной Европы У истоков самиздата 1960-х годов стояло тиражирование и распространение художественной литературы / Фото: Поэма Иосифа Бродского «Шествие», самиздат / © Архив Центра Восточной Европы
#Иосиф БродскийИнакомыслящие самостоятельно выпускали книги, создавая таким образом альтернативу государственным изданиям. За счет этого возник неофициальный литературный канон. Фото: Поэма «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева, самиздат / © Архив Центра Восточной Европы В конце 1970-х годов была предпринята неудачная попытка официально публиковать альтернативную литературу в альманахе «МетрОполь». На Западе этот альманах вызвал большой резонанс / Фото: Печатные гранки альманаха «МетрОполь» / © Мария Классен, Архив Центра Восточной Европы Некоторые выпуски самиздатовского журнала «Транспонанс» супругов Сергея Сигея и Ры Никоновой были настоящим арт-объектом. Издание выходило минимальным тиражом в течение примерно десяти лет, до 1987 года / Фото: Разворот художественного журнала / © Архив Центра Восточной Европы В 1970–1980-е годы публикации самиздата стали более разнообразными. Любители музыки начали выпускать собственные «фэнзины» и публиковать в них тексты песен, рассказы о концертах и музыкальных группах вроде The Beatles / Фото: Обложка музыкального журнала «Рокси», 1980 / © Архив Центра Восточной Европы
Искусство и музыка андеграунда
Вся сфера искусства и культуры в Советском Союзе была подконтрольна государству. Каждый, кто хотел официально заниматься искусством, должен был вступить в Союз художников. Членство было обязательным условием не только для получения заказов, но и для получения художественных материалов, доступа к художественным мастерским и репетиционным залам. Для того чтобы стать членом Союза, художники должны были пройти курс обучения и обязаться следовать принципам социалистического реализма. Это обстоятельство лишало, например, абстрактное искусство права на существование, хотя границы дозволенного менялись в течение 1950–1980-х годов.
Балансирование на границе дозволенного
Как и всем мире, советские художники воспринимали показ своих работ публике как часть своего творческого самосознания. Тем не менее право выставлять свои произведения в галереях или на государственных выставках и ярмарках имели исключительно те художники, которых поддерживало государство. Все остальные были лишены этой возможности, поскольку свободного рынка искусства, основанного на спросе и предложении, не существовало. Поэтому художники-нонконформисты искали альтернативные способы обойти официальные директивы. Они часто действовали на границе между официальной и неофициальной сферами: брали государственные заказы, например, иллюстрировали детские книги, а в свободное время создавали абстрактные произведения или концептуальное искусство, которое могли увидеть только их единомышленники.
Неофициальные выставки в квартирах и парках
Уже в 1950-е годы некоторые художники показывали свои работы на квартирных выставках в подмосковном Лианозово. В 1970-х и 1980-х годах эта практика самоорганизации вышла на новый, профессиональный уровень. Художники и любители искусства превращали пустующие квартиры во временные выставочные пространства, использовали открытые площадки и парки для проведения нелегальных групповых выставок или хэппенингов. Они распространяли напечатанные ручным способом пригласительные билеты, основывали подпольные галереи, составляли книги художников или документировали в них свою деятельность. Постепенно стали разрушаться границы и между видами искусств: живопись, поэзия и концептуальное искусство часто сочетались, а произведения создавались в тех местах, которые для этого официально не были предназначены.
Неформальная художественная среда
Альтернативные художники в СССР всеми силами боролись с целенаправленными ограничениями и репрессиями со стороны государства: они неустанно продолжали прикладывать усилия по утверждению собственного художественного стиля и стиля жизни, а также для того, чтобы сделать «другое искусство» заметным для публики. Особенно в 1980-х годах они все чаще стали использовать возможности, появлявшиеся на региональном уровне, для того чтобы проводить выставки, например в домах культуры. Сторонники «Товарищества экспериментального изобразительного искусства» попытались даже основать в начале 1980-х годов альтернативный Союз художников. Несмотря на то, что их попытки зарегистрировать его в государственных органах были безуспешными, в Москве, Ленинграде и других городах в течение нескольких десятилетий развивались оживленные неформальные художественные сообщества, далекие от государственной культурной работы.
Квартирные концерты и русский рок
Альтернативным музыкантам и представителям появившихся в СССР молодежных субкультур также со временем все с большим успехом удавалось использовать государственные структуры в своих целях и создавать собственный стиль жизни. В какой-то момент стало очевидно, что государство, несмотря на «железный занавес», не в состоянии полностью подавить такие явления, как движение хиппи, западный рок и панк-музыку. Приняв участие в создании таких культурных организаций, как «Ленинградский рок-клуб», государство сделало шаг навстречу молодому поколению. В советских дворах и котельных не только слушали «Битлз» и зачитывали самодельные музыкальные журналы, там же развивался новый жанр — русский рок. Отдельным героям молодежи, таким как музыкантам «Кино» и «Аквариума», удалось пробиться на официальную сцену еще до перестройки. Но параллельно с этим миром развивался мир квартирников — квартирных концертов, ставших для многих магическим центром притяжения.
Не имея возможности выставляться в официальных галереях, художники-нонконформисты устраивали выставки прямо в квартирах / Фото: Выставка в одной из ленинградских квартир, 1981 / © Сергей Ковальский / Архив Центра Восточной Европы Художники-концептуалисты составляли каталоги и документации собственных работ. Сегодня эти архивы позволяют подробно реконструировать художественные акции того времени / Фото: Московский архив нового искусства (МАНИ) / © Архив Центра Восточной Европы Приобрести экстравагантную одежду в СССР было непросто. В соответствии с традициями русского авангарда Ры Никонова придумывала и шила свои наряды сама. Она же редактировала неофициальный журнал моды.
Фото: Эскиз вечернего платья и фотография автора в платье на пляже в Коктебеле, 1972 / © Архив Центра Восточной ЕвропыСнос бульдозерами выставки художников-нонконформистов в сентябре 1974 года вызвал бурный протест за рубежом. В итоге власти разрешили провести однодневную выставку в московском районе Измайлово / Фото: Выставка в Измайловском парке, 1974 © Архив Центра Восточной Европы Художники-нонконформисты нередко работали как в неофициальной, так и в официальной сфере. Некоторые, как Илья Кабаков, имели обычную работу, а свободное время посвящали «другому» искусству. Фото: Илья Кабаков в своем ателье. На заднем плане работа «Проверена. На партийной чистке», 1984 / © Георгий Кизевальтер / Музей современного искусства «Гараж» В официальной сфере Илья Кабаков работал иллюстратором детской литературы. Основанный в 1975 году Московский объединенный комитет профсоюза художников-графиков считался либеральным художественным объединением, а его выставки — островом свободы, где было место и нонконформистам.
Фото: Книга «Долгий день великанов»Петера Хакса с иллюстрациями Ильи Кабакова, 1970 / © Архив Центра Восточной ЕвропыС 1980-х годов музыкантам все чаще удается использовать государственные структуры в своих целях, не изменяя собственному стилю жизни.
Фото: Выступление «Аквариума» в ДК НПО Норпласт, 1981 / © Илья Смирнов, Архив Центра Восточной ЕвропыОткрытие Ленинградского рок-клуба и подобных объединений в начале 1980-х стало шагом, которое государство сделало навстречу молодому поколению / Фото: Концерт группы «Зоопарк», 1983 / © Дмитрий Конрадт Настоящим местом встреч любителей альтернативной музыки в советских городах стали так называемые квартирники. Фото: Квартирник Бориса Гребенщикова, 1986 © Виктор Немтинов, Архив Центра Восточной Европы
Преследования инакомыслящих
Сомнения в непогрешимости государственной политики в СССР почти неотвратимо вели к наказанию. Наказанием могло быть исключение из определенных сфер общественной жизни или временная изоляция, тюремный или лагерный срок.
Увольнение с работы
В первом случае ожидало «всего лишь» увольнение или исключение из учебных заведений или профессиональных организаций, таких как Союз художников или писателей. Во втором случае гонениям предшествовали не административные, а уголовные процессы. Инстанция и мера наказания определялись тем, какой «потенциал угрозы» государственная власть и действовавший в то время закон усматривали в каждом отдельном случае: политически мотивированные действия, например, так называемая «антисоветская агитация и пропаганда», считались «особо опасными государственными преступлениями» и превосходили по тяжести уголовные преступления, даже связанные с насилием против человека.
Ссылка, заключение и принудительный труд
Ресоциализация уголовных преступников в Советском Союзе базировалась на главном инструменте перевоспитания — принудительном труде. Часть осужденных, отбывая лагерный срок, должна была работать на различных предприятиях. Иных отправляли в ссылку. Ссылка означала (временное) пребывание в местах, далеких от привычной жизненной среды осужденных. Они находились под наблюдением администрации, но в повседневных делах ссыльные пользовались определенной независимостью. Ничего похожего не было у заключенных в так называемых исправительных колониях или в тюрьме, они не имели права покидать места отбывания наказания.
Вместе с другими заключенными осужденные по политическим статьям жили в бараках и занимались принудительной работой, часто в суровейших условиях. В зависимости от лагеря это могла быть очень тяжелая физическая работа (например, лесоповал или добыча торфа) или чрезвычайно монотонное производство предметов обихода, связанное с выполнением норм выработки (например, в плотницких или швейных цехах, либо паяние деталей для электроприборов). Только при хорошем поведении и не чаще, чем позволяли строгие правила, заключенные могли получать передачи из дома или свидания с ближайшими родственниками. Заключенных по политическим статьям с 1960 года содержали в лагере в Мордовии — Дубравлаге, а с 1972 года в еще трех колониях в Пермской области, одна из которых известна как «Пермь 36». Заключенных, несколько раз нарушивших правила распорядка, переводили в тюрьму, что означало еще более строгую изоляцию. Во Владимирской тюрьме имелся особый коридор с камерами для заключенных, осужденных по политическим мотивам.
Карательная психиатрия и изгнание
Особую форму наказания представляло собой принудительное лечение в психиатрических клиниках. Никто не контролировал соблюдение прав помещенных туда пациентов, невозможно было проверить или предотвратить применение сильнодействующих препаратов.
В редких случаях к инакомыслящим применялась и такая мера, как изгнание из страны. Лишенные советского гражданства были вынуждены покинуть Советский Союз навсегда: возвращение на родину было запрещено. Часть диссидентов добровольно запрашивала разрешение на выезд в эмиграцию, и все же отъезд из СССР всегда был связан со сложными чувствами. С одной стороны, часть диссидентов, особенно советские евреи, желали выехать из страны и связывали с эмиграцией надежды на новую жизнь и свободу. С другой стороны, они отправлялись в неизвестность, оставляя дома друзей и семьи. В то, что ни железный занавес, ни Советский Союз не вечны и могут рухнуть, даже самым решительным критикам режима до самого конца было трудно поверить.
После ареста инакомыслящих отправляли в камеру предварительного заключения. Фото: Рисунок из тюремного дневника Кирилла Успенского, 1960 / © Архив Центра Восточной Европы В лагере «Пермь-36» заключенные жили в бараках и работали на производстве детали для утюгов. На территории лагеря находился также штрафной изолятор. Фото: Реконструкция плана лагеря «Пермь-36» / © Архив Центра Восточной Европы Заключенные лагеря строго охранялись: несколько заборов, вышки, колючая проволока и надзиратели. Фото: Нелегальная съемка лагеря «Пермь-36» / ©
Иван Ковалев, Архив «Мемориала»В лагере «Пермь-36» был построен барак особого режима. Заключенных выводили из камер только на прогулку по двору. Фото: Барак отделения особого режима в лагере «Пермь-36», реконструкция после 1991 года / © Архив «Мемориала» Личных вещей у заключенных было немного. Одежду выдавала администрация лагеря. Для рецидивистов были предусмотрены полосатые робы. Фото: Одежда заключенного Георгия Давыдова / © Мария Классен, Архив Центра Восточной Европы Заключенным разрешалось отправлять ограниченное количество писем в месяц.
Все письма проверял цензор. За нарушение распорядка заключенные могли быть лишены права на переписку. Фото: Прошедшие цензуру письма Владимира Буковского / © Архив Центра Восточной ЕвропыЧтобы обойти цензуру, заключенные использовали секретные чернила и коды, известные только получателям. Фото: Письмо Георгия Давыдова жене. Секретный текст проступал на влажной бумаге / © Архив Центра Восточной Европы Политзаключенные нелегально передавали информацию из лагеря: тайные записки заворачивали в целлофановую пленку и проглатывали до дня свиданий, а при встрече передавали их родственникам. Фото: Ксива Эдуарда Кузнецова из лагеря в Мордовии / © Архив Центра Восточной Европы Некоторых диссидентов высылали из СССР и лишали гражданства. Одним из самых известных изгнанников был Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии по литературе. Фото: Бродский в аэропорту Пулково в Ленинграде 4 июля 1972 года, в день отъезда из СССР / © Михаил Мильчик
#Иосиф Бродский
Текст: Мануэла Путц
Архивные поиски: Алеся Кананчук и Мануэла Путц
Перевод с немецкого: Anonymous
Опубликовано: 24 декабря 2021 года